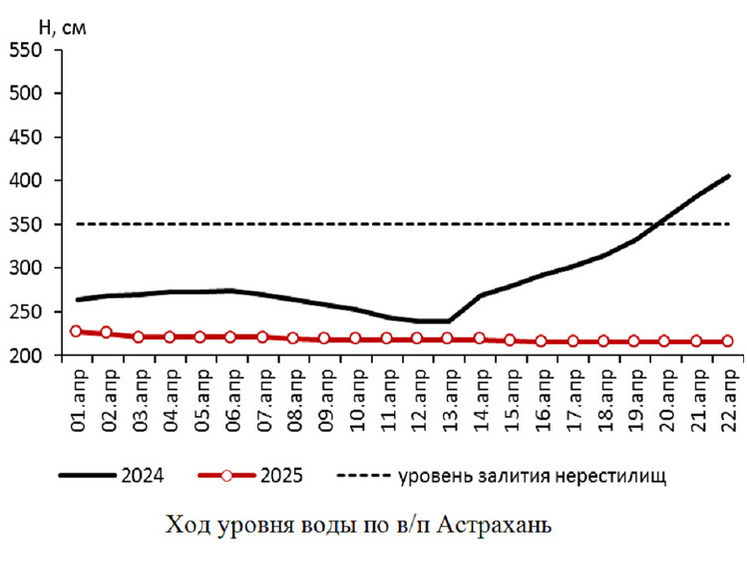Свидетелем и непосредственным участником тех событий был тульский рабочий Александр Сергеевич Фролов (1880 – 1931), 135 лет со дня рождения которого исполнилось 23 августа. О том, что с ним было на рубеже XIX и XX столетий, о своей незаурядной жизни он рассказал в книге «Пробуждение», вышедшей в 1923 году. Под названием «О былом и пережитом (Воспоминания тульского рабочего)» она была переиздана Приокским книжным издательством в 1990 году. В книге «зримо оживает старая Тула», отмечал в предисловии авторитетный краевед, профессор Николай Милонов. К этому стоит добавить, что временной разрыв длиною в век с лишним мало повлиял на актуальность «Воспоминаний», которые – с поправками на идеологические наслоения и научно-технический прогресс – то и дело наталкивают на аналогии и параллели между прошлым и нынешним.
Кузнец своей судьбы
Начало биографии Александра Сергеевича типично для того времени и того слоя общества: в одиннадцать лет поступил в земскую школу, в двенадцать с небольшим стал учеником на «небольшой, но старинной» самоварной фабрике Ваныкина, затем работал на крупной фабрике Баташева. Дальше начинается его особый, собственный путь – участие в забастовке, увольнение, поиски работы, случайно подвернувшаяся должность писца страхового общества, учеба в воскресной школе, осознание необходимости знаний, сближение с революционерами, политическая деятельность. Аресты, поиски работы, а главное – поиски себя.
Первый рассказ – о солдате, бросившем ружье при расстреле политических заключенных, – Фролов принес Вересаеву, одобрившему пробу пера: «Искренне написано и образно. Слог не чужой, а ваш собственный; это плюс». После этого автор отправил свое произведение в «Правду», но его сразу не напечатали, а через некоторое время рукопись была изъята при обыске в редакции. Тульское губернское жандармское управление завело против Фролова дело о побуждении военных к «нарушению обязанностей службы» и подстрекательстве к вражде «между массами населения». И опять арест, заключение…
Во время Первой мировой войны Фролов разошелся с большевиками, примкнув к «оборонцам»-меньшевикам. После октябрьской революции он работал в кооперации, параллельно осваиваясь в литературном мире – вступил в литературную группу «Кузница», сблизился с Гладковым, Новиковым-Прибоем и другими известными писателями. Кооперативная работа привела его на Украину, где Александр Сергеевич издал первые книги. Чуть позже его «Пробуждение» вышло и в Туле.
«В те годы широко практиковались выступления писателей со своими произведениями в рабочих клубах, школах, на вечерах и библиотечных конференциях, – вспоминал харьковский литератор Николай Голубев. – Бригаду русских писателей на литературных вечерах всегда возглавлял Саша – он и открывал вечера, и руководил собранием. Говорить он умел хорошо. Но еще лучше читал – душевно, выразительно, – слушала аудитория, затаив дыхание».
В начале 1926 года еще не старого Александра Сергеевича разбил правосторонний паралич, однако он не поддался болезни – научился писать левой рукой, много печатался, ездил в творческие командировки на заводы и шахты. Одна из таких поездок привела к крупозному воспалению легких. Писателя из рабочих не стало в 51 год. Он не дожил до массовых репрессий конца 1930-х годов, под которые наверняка угодил бы из-за своего меньшевистского прошлого и честности в творчестве.
«Это острое внимание к людям, к своеобразию их характеров, к их внутреннему миру и поведению, привычкам и обычаям отвечает нашей сегодняшней потребности личностного познания истории без прикрас и схематизации, без «выпрямления» живых человеческих индивидуальностей в угоду каким бы то ни было целям», – так характеризовал произведения Фролова профессор Милонов.
Картинки с натуры
Особенно интересны у Фролова бытовые штрихи, которыми он ярко рисует жизнь и нравы рабочего сословия старого времени. Самоварщики, например, «за позор считали даже красиво одеться, не говоря уже о других потребностях, – писал Александр Сергеевич. – Чтобы какой-нибудь рабочий-самоварщик вышел в праздник на улицу одетым, как другие граждане города, т. е. – в европейском костюме и шляпе, да убей его, он бы в ту пору не согласился. Был такой случай: во время празднования столетия Пушкина пустили в продажу так называемые «пушкинские шляпы». Я купил, первый раз в жизни надел ее и по-заправски, а не в шутку, стал в ней гулять. И что же вы думаете? – когда фабричные ребятишки и мастера увидели меня в шляпе, они буквально ходили за мной по улице, как за слоном, смеялись, улюлюкали и тотчас же дали мне название: «картонный барин».
У них была «своя одежда: простые сапоги, рубаха, шаровары, пиджак, крытый козырек фуражки. Волосы по праздникам они мазали «деревянным маслом» (одна из разновидностей оливкового масла – Ред.) и стриглись в скобку… Эта специфическая фабричная одежда отличала их от всех граждан, и даже портнихи не решались знакомиться с молодыми рабочими, чтобы не быть осмеянными своим кругом. Рабочие-самоварщики жили жизнью особой, не соприкасаясь ни с каким другими общественными группами».
Фролову «бессознательно хотелось толкнуть рабочих на другой путь жизни, откуда можно бы было увидеть им и себя и других. Я стал звать молодых рабочих в театр. «Лучше полбутылки водки выпить, чем в твой киянтер иттить, – говорили они мне. – Чего я там не видел»… Однажды фабричное начальство решило по праздникам водить рабочих в театр бесплатно. Но «в первый же день рабочие оскандалились. Один токарь (был ли он пьян, или от усталости, или потому, что театральное действо было для него неинтересно) уснул и свалился в другой ряд, наделав шуму».
Куда больше нравилось самоварщикам «празднество, устраиваемое хозяином каждый год на осеннюю Казанскую» – мастерские убирались, как под Пасху, рабочие одевались во все лучшее и к девяти утра собирались к фабрике, «окружные кабатчики в этот день были щедры и не скупились с утра отпускать на «запиши». Даже городовым дано было знать, чтобы баташевских в этот день не трогали». После общего молебна приложившиеся к кресту рабочие подходили к хозяевам и, низко поклонившись, что означало поздравление, направлялись во двор, где в три ряда стояли лубочные короба со снедью, в конце и начале каждого ряда – покрытые белыми скатертями столы с пятиведерными самоварами, полными водкой. Вышедшие хозяева «выпивали по рюмке вина, поздравляя рабочих с праздником», пятьсот голосов гремело «ура», музыка играла туш и «Боже, царя храни» – «все распоясывалось и заражалось пьяным весельем»: «Двор шумел, как улей. Пили, ели, грызли, пели, «ездили в ригу», плясали и валялись, обнявшись друг с другом». А вечером выносили из конторы «мешки с серебряными рублями, полтинниками и четвертаками и одному из конторщиков поручалось раздавать эти деньги: по рублю – мастеру, по полтиннику – подручному и по четвертаку – ученику. Двор пустел, и веселье переходило на улицу, в кабаки и трактиры». На другой день после праздника рабочих за прогул не штрафовали…
«Свой – чужой»
Грозой всего тульского Чулкова, писал Фролов, были веневцы – «народ отчаянный». Получили свое название они от улицы, на которой жили – Веневская. «Бывало, небольшая группа веневской рабочей молодежи, преимущественно гармонщиков и оружейников, сколачивалась вечерком, после работы, на углу улицы и мирно обсуждала голубиную или чижиную охоту, бои кулачные… В зависимости от времени года играли в игры: летом – в орлянку, зимой в шары. Бились друг с другом на кулачки по-товарищески. А то соберутся с гармошками, гармонисты хорошие были, ударят в «венскую», «трехрядку» и «ливенку», остальные хором и – вдоль улицы…
– Веневцы идут! – говорят улегшиеся спать жители. И всю ночь напролет шатаются веневцы и играют».
Друг за друга они стояли горой, отмечал Фролов: «Если кто случайно из чулковцев затронет веневца – шабаш! На Веневскую вечером не появляйся, поймают и вздуют, как сидорову козу. Своих не трогали, а с жителями других улиц Чулкова, не говоря уже о жителях других частей города, не любили шутить. Особенно, когда с ихними девками заводили знакомство парни с других улиц… били они своих же рабочих лихо и безо всякого зла… «Ребята, за что же?» – говорит жертва, поднимаясь на четвереньках с полу, грязный и окровавленный. «Не ходи по чужой улице», – отвечают ему».
В конце концов, веневцами занялась полиция. Пристав Лавров с городовыми стали разъезжать верхом и брать в плети всех, кто попадался на улице в неурочный час, а в самом участке и вовсе били смертным боем. «Застонало Чулково хуже, чем от веневцев. Стало тише, но было жутче».
Тогда веневцы, «как бы одумавшись, перестали озорничать и повели борьбу с городовыми. Последней их песнью было то, что они, подкараулив самого пристава на улице, накинули ему аркан на шею. Но он сорвался. Стал осторожней, тише. Чулковцы вздохнули и все простили веневцам, загладившим свои озорства борьбой с Лавровым».
Рабочие и хозяева
При всем своем негативном отношении к хозяевам Фролов довольно объективно оценивает условия, в которых на них трудятся люди.
Вот он после увольнения от Баташева поступает на другую самоварную фабрику: «Пришел в мастерскую: маленькая, грязная, душная, дымная. Рабочие друг на друге, – повернуться негде. После баташевской фабрики жутко стало… Не удержался, рассказал про баташевские мастерские, про чистоту, про порядок. Понравилось, рты разинули: «Вот бы и у нас так!» Спустя год у них было не хуже, чем у Баташева. Митька Шемарин, хозяин, из простых, пройдоха, неглупый, конкурентом стал Баташеву; с ничего начал, а первый в России кредит открыл на самовары. Загремел на весь мир коммерческий! Но я на другой же день сбежал с фабрики».
Позже, уже после отсидки за участие в первой тульской политической демонстрации, Фролов в поисках работы опять пришел к Шемарину – но тот «попросил дворника выгнать меня».
Нет, не складывались хорошие отношения между хозяйской кастой и рабочим, осознающим, что он – такой же человек. Да и не могли, конечно, сложиться…
* * *
«Мой маленький литературный труд, выношенный мною в долголетней черной жизни и написанный на заре пробуждения рабочего класса, я посвящаю рабочей семье – Пролетариату», – так в духе времени (не будем забывать, что писалось это в 1923 году) предварил Александр Сергеевич Фролов свое «Пробуждение». И закончил слово от автора страстным заверением: «Я перестрою всю жизнь в мире на новых началах, присущих моему классу… Вопрос только во времени».
Время и расставило все по своим местам. К лучшему или худшему – оно само и покажет. Мы же пока можем лишь сравнивать то, что было, что стало и что есть. И делать выводы, каждый для себя…